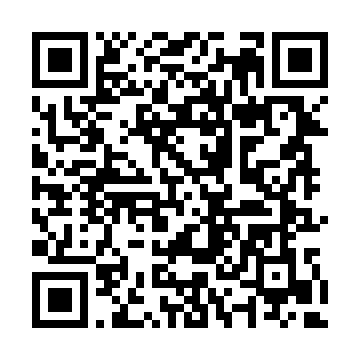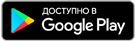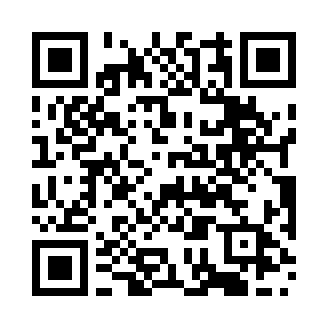Журнал Стандарт / №11(94) ноябрь 2010
Не вылететь в «трубу»
| Стандарт |
|
Не вылететь в «трубу»
Дискуссии о том, как операторам широкополосного доступа в Интернет не превратиться в "трубу", по которой сторонние поставщики услуг передают постоянно нарастающие объемы трафика, в мире ведутся уже несколько лет. Как развиваться российским операторам, нужно ли создавать мультимедийные направления и какие проблемы возникают на этом пути, обсуждали участники "круглого стола" журнала "Стандарт".
СТАНДАРТ: Каковы основные тренды ШПД-рынка в России? Что предлагают операторы, чтобы повысить лояльность пользователей, какие ресурсы задействуют, чтобы не превратиться в "трубу", какие бизнес-модели при этом используют?
Дмитрий Багдасарян, коммерческий директор ЗАО "Комстар-Регионы":
В числе основных трендов я бы назвал мультисервисность: double play, triple play, quadro play и прочее – они все востребованы. Опыт "ВымпелКома" и группы компаний МТС показывает, что будущее – за пакетными предложениями. Кроме того, известный в ИКТ-отрасли "закон Мура" активно проявляет себя и в сфере услуг широкополосного доступа в Интернет: рост скорости доступа и снижение стоимости налицо. Также среди трендов я бы отметил развитие платного ТВ на основе инфраструктуры широкополосных сетей связи. Американские аналитики утверждают, что через Интернет передается до 17 % телевизионного трафика, а к 2013 году этот показатель достигнет 48 %.
При этом я бы не ставил вопрос именно так: "как оператору не превратиться в "трубу"? По большому счету, быть "трубой" тоже неплохо, если оператор умеет зарабатывать деньги на продаже трафика. И если у него есть возможность добавить сервисы, которые предоставляются не ядром сети, а дополнительными платформами, то почему бы оператору не развивать это направление?
Валерий Фаткуллин, директор по маркетингу ООО "СиТиАй" (CTI):
Со стороны компании-интегратора я ограничусь четырьмя основными тенденциями: в 2010 году возобновилась активная консолидация рынка, оптика почти везде уже доходит до дома, большинство операторов использует технологию Fiber-To-The-Home (FTTH), а в IP-трафике все больше места занимает видео. И еще один тренд, который важно отметить, – компании серьезно занялись пакетированием услуг.
Андрей Вдовин, программный директор ООО "СиТиАй" (CTI):
Прежде чем размышлять о том, как операторам не превратиться в "трубу", я бы вернулся на 20 лет назад, когда в России только начиналось коммерческое телевидение. Связисты в радиотелевизионных передающих центрах (РТПЦ) стали первыми получать связные лицензии на вещание эфирных каналов, сдавая их потом в аренду телекомпаниям, имевшим, в свою очередь, вещательные лицензии: по сути, предоставляя те самые "трубы" для доставки чужого сигнала. Многие, также не желая быть только "трубой", получали и вещательные лицензии. Но при этом всегда вставал вопрос – кто, собственно, будет наполнять "трубу"? В результате все равно шли к телекомпаниям-производителям.
Павел Ребров, директор по развитию ООО "Видимакс":
Я не вижу ничего плохого в том, чтобы оператор оставался "трубой". В мире существует немало успешных примеров. К примеру, в Прибалтике ряд операторов использует в качестве модели бизнеса так называемую открытую сеть. Сеть в виде закрытого пространства, как это строилось раньше, приносит все меньше доходов. Абонентам нужны возможности социальных сетей, они хотят пользоваться коммуникациями в агрегированном виде. Поэтому идея, что услуги будут жить только в сети оператора, себя изжила. Сервисы уходят в Интернет – принадлежность к сообществу определяется не оператором связи. Мы движемся к тому, что на рынке ШПД появится множество бизнес-моделей, но все они будут открытыми. На базе своих платформ операторы будут реализовывать не только свои услуги, но и сервисы партнеров. Очевидно, что ТВ-сервис лучше реализуется на сети оператора, где обеспечено гарантированное качество доставки сигнала, проще привлекать клиентов. Однако все, что касается "обвязки", VAS – эти сервисы качественнее производят небольшие, оперативные команды. Есть, конечно, и услуги, которые никто не сделает лучше операторов – это корпоративные сервисы, требующие гарантии качества.
Кирилл Аношин, заместитель генерального директора ООО "Интеллектуальные Интернет технологии"
(2it):
Здорово, конечно, что традиционные операторы предоставляют конечным абонентам цифровое ТВ или IPTV – сто и более каналов, но смотреть-то хочется то, что интересно в данный момент, а не просто оплачивать сервис. Как и большинство коллег, в числе основных трендов развития ШПД в России я бы назвал то, что голос, видео и телевидение уходят в Интернет, где можно посмотреть все – от фильма до матча. Но до тех пор, пока в России существуют небольшие локальные операторы, живущие по своим бизнес-моделям, таким как построение собственных точек обмена трафиком (локальные IX), построение сетей передачи данных (ПД) на оборудовании и технологиях, не всегда соответствующих идеологии построения сетей крупных компаний, а в сети Интернет остается масса ресурсов, позволяющих бесплатно использовать практически любой вид контента, ведущим операторам будет очень сложно зарабатывать на дополнительных сервисах, в том числе на видео.
Максим Раевский, ведущий менеджер ОАО "Центральный телеграф":
Лет 10 назад я читал статью в английском PC Magazine о том, что в Великобритании появилась тенденция – Интернет становится бесплатным. При ближайшем изучении материала выяснилось, что доступ в Интернет для пользователя далеко не бесплатный, но модель оплаты была очень интересной. Абонент не перечислял ни пенса в сторону интернет-провайдера, зато оплачивал местный телефонный звонок. При этом телефонная компания перечисляла деньги за приземление звонка на оборудование интернет-провайдера. Их вполне хватало для оплаты интернет-трафика. Там же рассказывалось и о другой модели, когда услуги связи и доступа в Интернет оплачивает потребитель, и прогнозировалось, что со временем денежный поток в сторону оператора связи пойдет с другой стороны – правообладатель станет оплачивать услуги доступа абонента к информации. Я тогда подумал, что этого никогда не будет. Но теперь вижу, что в смежных областях эта модель работает – в частности, операторам эфирного или спутникового ТВ за доступ к аудитории платят правообладатели – "генераторы трафика".
В некоторых случаях услуги доступа в Интернет в России также оплачивает правообладатель: у операторов появились тарифы, в которых доступ к "Яндексу" или другим сетевым ресурсам для абонента бесплатен, и возможность доступа к ресурсу есть даже тогда, когда у пользователя заблокирован счет. А в эпоху диал-апа бесплатный доступ к интернет-магазину "М-Видео" можно было получить, дозвонившись по определенному номеру модемного пула. Эта модель, скорее всего, имеет право на жизнь.
Что же далее? Абоненту интересно смотреть контент бесплатно – те же футбольные матчи, но кто-то должен оплатить и услуги оператора связи, и сделать бизнес правообладателю. Последний, кстати, прекрасно зарабатывает на рекламе, и почему бы ему самому не оплатить услуги оператора? Впрочем, это уже происходит. Правообладатели оплачивают трансляцию эфирных телеканалов операторам связи. Если произойдет слияние телевидения и Интернета, о котором все говорят, то оплачивать услуги связи провайдеру логично не абоненту, а правообладателю. Да, тогда оператор связи будет просто "трубой". Но если исходить из этой логики, такой же "трубой" являются вышки, которые используются для эфирного вещания, или спутники.
Павел Минаев, генеральный директор ООО "РусИнтерКом", УК группы компаний "Норильск Телеком":
Соглашусь с основной мыслью, высказанной коллегами. Ведущий тренд развития широкополосного доступа в Интернет у нас в стране пока такой же, как в Америке. Там развитие телекоммуникаций базировалось на Интернете. Вот и у нас широкополосный доступ к Сети становится ядром развития отрасли, и роль оператора в данном случае – быть "трубой", но интеллектуальной.
Что имеется в виду? С одной стороны, ШПД – это проводник между агрегаторами контента и абонентами, с другой – технологическая цепь, последнее звено которой – пользователь с его индивидуальными потребностями. Соответственно, "труба" должна интеллектуально управляться, чтобы абонент получал желаемые сервисы, а у оператора была возможность регулировать ситуацию.
Алексей Крайнов, директор по развитию широкополосного доступа ОАО "ВымпелКом" ("Билайн"):
Идеологию, которую мы исповедуем в "Билайне", можно назвать "умной трубой". Мы строим сети, развиваем телевидение, обеспечиваем взаимодействие с партнерами; важно понимать, что в долгосрочной перспективе – это роль оператора связи. Будучи "умной трубой" мы отмечаем, что нам нужны внешние партнеры – от небольших инициативных групп до крупных лицензионных контент-провайдеров. Но для нас этот бизнес – смежный. Контентная составляющая потенциально может приносить прибыль, но это не означает, что оператор может прийти к крупному поставщику контента или интернет-порталу и сказать: "Заплатите за то, что вы в моей сети". В ближайшие пять лет такая схема работать не будет, но если я отключу эти ресурсы – потеряю абонента.
Операторы будут работать над развитием VAS, но пока их главная задача – найти решение, которое обеспечит рост доходов пропорционально или четко в корреляции с тем трафиком или услугами, которые он предоставляет. Объем трафика на пользователя растет экспоненциально – драйверы мы уже упомянули: видео, тяжелый контент. Инвестиции, необходимые для поддержки растущего трафика, также растут линейно или по экспоненте. Но рынок реагирует таким образом, будто ничего не происходит. В результате операторские затраты на предоставление сервисов растут, а доходы падают. Если эта задача будет решена, не будет острой необходимости в получении дополнительных средств от производителей и поставщиков контента.
Мы согласны, что телевидение уходит в Интернет, и делаем ставку на IPTV. Но и в этом сегменте много особенностей, к примеру, крупные операторы оплачивают то, что никогда не оплатят мелкие игроки: "доступ к дому", цифровой контент. Ориентироваться на "серые" бизнес-модели не хочется – они просуществуют недолго. Но крупные операторы от их наличия несут потери. Ведь половина цифрового контента в сетях небольших компаний – это "пойманный" эфирный канал, переведенный в "цифру" и проданный по цене, значительно ниже той, что мы можем предложить, официально заплатив партнерам за цифровой контент.
Тренд, когда пользователь и правообладатель хотят бесплатного Интернета, лежит на поверхности. Ведь чем дешевле доступ в Сеть, тем выше проникновение, соответственно – больше показов, рекламных ссылок, и, как следствие, больше рекламная выручка. Наша модель не совсем вписывается в такую стратегию. Многомиллиардные инвестиции операторов в развитие сетей, качество услуг и сервисов нужно оправдывать.
Дмитрий Багдасарян:
Когда звучит фраза "бесплатный Интернет", у меня возникают ассоциации с "бесплатным" ТВ, хотя индустрии платного ТВ в России уже 18 лет. При этом до сих пор операторы платного телевидения страдают от того бесплатного телевидения, которое было раньше – очень сложно перестроить сознание людей и доказать, что за качественное ТВ надо платить.
Мы сторонники прозрачного и эффективного бизнеса, и каждый должен понимать, что достойное телевидение кто-то должен оплачивать. Если с рынка платных услуг будут "выдворены" операторы, то на их место придут другие поставщики сервисов, готовые контролировать трафик и денежные потоки, но это не принесет позитива, ведь операторы уже инвестировали огромные средства и готовы обеспечивать абонентов услугами – в отличие от новых участников рынка.
Кирилл Аношин:
Абоненты не хотят платить за дополнительные услуги и ТВ-сервисы. Интернет приучил, что их бесплатно можно найти в Сети.
Говоря о "страдающих" операторах платного ТВ, соглашусь с Дмитрием – за продукт надо платить. Но только за качественный продукт, а основная масса каналов, ретранслируемых в сетях ПД, – это "жвачка", причем неоднократно использованная. И это уже проблема не столько операторов связи, сколько общества. Масса примеров перед глазами. Споры между "НТВ-Плюс" и ВГТРК из-за трансляции чемпионата России по футболу, показ английской премьер-лиги и т.д. Чем, кроме технологии, отличается трансляция канала в эфире от трансляции в сети Интернет? По большому счету – ничем. Только в приведенном примере все мы опять стали заложниками общества, спрятавшись за высокими словами "социальная значимость", "федеральные каналы". И что получилось в итоге? Конечный абонент так и не получил полной свободы выбора. Куда пойдет интернет-пользователь? Конечно же, в Интернет – там найдет все, и, как следствие, возрастет нагрузка на оператора доступа.
Мы видим, как растет трафик в сетях операторов и их инвестиции в расширение сетей. "Трубой", конечно, быть здорово, но и они небезграничны – необходимо инвестировать не только в расширение сетей, но и в технологии. Надо исследовать поведенческие модели абонентов и на основании этого перестраивать сети.
СТАНДАРТ: Как монетизировать постоянно растущий трафик, который генерируют абоненты "Яндекса", Torrents, Google и других сторонних провайдеров?
Николай Окладников, заместитель директора Центра сетевых решений ЗАО "Инфосистемы Джет":
Операторы вынуждены разрабатывать новую стратегию ухода от модели простой "трубы". Думают об этом все, а большая часть операторов уже начала действовать: рассматриваются новые модели оказания услуг и планы ценообразования, тестируются технологии контроля сети, трафика, сетевых приложений и пользователей. И происходит это во всем мире, в том числе и в России. Среди новых моделей оказания услуг рассматривается, например, дифференциация пользователей по доступу к Сети, основная цель которой – установить контроль за "тяжелыми" пользователями, которые активно применяют торренты, постоянно скачивают большие файлы, мешая другим пользователям, и оградить от них свою сеть путем перераспределения ресурсов канала.
Стремительный рост потребления трафика и необходимость оптимизировать инфраструктуру сети – все это стало катализатором рынка систем визуализации сетевого трафика, его глубокого анализа и управления политиками сетей, в частности, с применением технологии DPI (Deep Packet Inspection), и систем кэширования трафика. DPI может, например, обеспечивать оптимизацию нагрузки, создаваемой такими приложениями, как торренты, и контроль трафика на уровне магистральных провайдеров, что, как правило, решает задачи управления доступом к тем или иным ресурсам. Технологии DPI позволяют с большой точностью идентифицировать широкий спектр сетевых приложений и тем самым реализовать дополнительную дифференциацию предоставляемых сервисов. Появились возможности контроля сессий каждого абонента, визуализации трафика на уровне приложений и конкретных пользователей, привязки профиля трафика к соответствующему тарифному плану.
Кирилл Аношин:
Если говорить про частных пользователей, то, к сожалению, как только оператор ограничивает доступ, абонент тут же переключается на другого оператора. Благо, сейчас не 2000 год, и предложений на рынке очень много. Но для корпоративного клиента такая модель сработает. Мало того, многие корпоративные пользователи при отсутствии ИТ-подразделения, сами просят операторов поставить ограничения на использование определенных ресурсов. Хотя, с точки зрения монетизации, как раз оплата корпоративным клиентом "тяжелого" контента по трафику для оператора – очень лакомый кусочек.
Если рассматривать общий бизнес-процесс компании клиента и поставить себе цель повышения лояльности персонала, а также допустить, что взаимоотношения между оператором и клиентом строятся по партнерскому принципу, то явно напрашивается модель разного учета "тяжелого" трафика, а не полное его закрытие. В этой схеме и оператор заработает, и компания много не потеряет, да и сотрудник будет лоялен и доволен, что его не заставляют "пахать как раба на галерах", а позволяют отвлечься от основной работы. Но повторюсь – боюсь, наше общество в целом к этому не готово.
Николай Окладников:
Ограничение доступа коснется, прежде всего, тех 10 % клиентов, которые генерируют 90 % трафика. Зато для остальных 90 % качество доступа улучшится. Клиенты, которым важно качество сервисов, готовы за это платить. Если абоненты еще не готовы оплачивать контент, то факт, что за хороший доступ в сеть нужно платить, пользователи уже осознали.
Павел Ребров:
Почему только оператор должен задумываться о монетизации? Трафик порождается YouTobe, Netrix и другими порталами – они заинтересованы в том, чтобы "труба" была широкой. Нужно ожидать, что поставщики контента включатся в процесс, поскольку они заинтересованы в разделении доходов с оператором.
Алексей Крайнов:
На мой взгляд, такие видеопорталы до сих пор не нашли модель монетизации. Пока они потребляют терабайты трафика, а зарабатывают микрокопейки.
Максим Раевский:
Посмотрите, какое количество мультимедийных проектов и интернет-телеканалов открылось после того, как стало возможно вещать через Интернет! Ранее такой возможности не было, а потому инвестиции в структуру распространения были астрономические. Теперь, когда появился Интернет, инвестиции в инфраструктуру для каналов и вещателей минимальные – ведь они не оплачивают "последнюю милю".
СТАНДАРТ: Как операторам справляться с этой задачей и при этом зарабатывать?
Алексей Крайнов:
Системы DPI и подобные должны использоваться правильно. Приоритизация трафика позволяет высвободить объемы и скорости для абонентов, которые не загружают канал с утра до вечера передачей интернет-радио- или ТВ-каналов. Мы считаем, что правильно предлагать пользователям различные дополнительные услуги и виды контента по различным тарифам, соответствующим потребляемому трафику. Это гарантирует качество доступа в Сеть и другим пользователям. Такого рода нововведения можно выводить на рынок, если ключевые игроки это понимают и разделяют. Если конкурент играет по другим правилам, сложно работать – надо ждать суперконсолидации, когда 90 % участников рынка смогут договориться. А пока рынок находится в состоянии бурного роста объемов трафика и необходимости дальнейших инвестиций в инфраструктуру, а его незрелость и неорганизованность мешают изменениям на рынке.
Павел Минаев:
Мы также сталкиваемся с проблемой нецивилизованной работы на рынке и стараемся ее решать. К тем участникам, которые не соблюдают правила, нужно применять цивилизованные меры.
Алексей Крайнов:
Крупные операторы играют "в белую", в то время как большинство мелких участников рынка широкополосного доступа в Интернет работают по "серым" схемам. Если мы не объединимся – не факт, что сможем одолеть эти нецивилизованные методы работы.
Дмитрий Багдасарян:
В одном из регионов, где "Комстар" оказывает услуги, мы обратились в Роспотребнадзор с жалобой на то, что один из местных операторов ворует у нас контент и продает в своей сети за меньшие деньги. Надзорный орган нам ответил, что жалобы принимают только от абонентов. Маловероятно, что абонент придет жаловаться на то, что платит меньше, но даже в этом случае ведомство ничего не гарантирует. Мы сообщили правообладателям, что у них воруют контент, на что они ответили, что ничего не могут сделать, так как у них нет с этими компаниями договорных отношений.
Ситуация сложилась критическая. С одной стороны, раздаются голоса, что операторы получают высокую маржу. С другой – говорят о том, что Интернет должен стоить меньше и быть социально ориентированным. При этом на рынке немало компаний, которые ведут бизнес нелегально. В этой ситуации сложно говорить о взрывном росте инновационных технологий.
Что касается монетизации растущего трафика, то в 2002-2004 годах я участвовал в Ассоциации GSM, где мы развивали рынок мобильного контента. В результате число российских контент-провайдеров к 2005 году выросло с 20 до 260. За счет чего это было сделано? Ведь не за счет же превращения операторов в "трубу"!
Операторы стали "умными трубами": установили интеллектуальные платформы, обеспечили провайдеров интерфейсами для создания новых услуг, донесли эту информацию до абонентов, настроили тарификацию, контроль качества. Но даже после этого, как только операторы убрали руку с пульса, начались проблемы: стало возникать много скандалов на тему некачественного контента.
Полагаю, поставщики контента должны осознавать, что именно тот, кто имеет доступ к пользователю, и должен монетизировать контент, и ему надо не мешать, а помогать. Он имеет ресурсы, желание, инструменты и, в конце концов, связь с абонентами, чтобы убедить их платить.
СТАНДАРТ: Был позитивный опыт монетизации контента в сетях мобильной связи, почему в фиксированном ШПД не выстроится понятная и прозрачная структура?
Александр Андрианов, директор по продажам ООО "Интраком связь":
Я думаю, успешно монетизировать трафик удастся тогда, когда Интернет потеряет одно из главных своих преимуществ – анонимность. Вы всегда должны знать, с кого вы собираетесь получить деньги. Те же, кто предоставляет "последнюю милю", всегда знают, с кем имеют дело.
Максим Раевский:
Тогда оператор связи окончательно станет "трубой". Я имел в виду противоположный тезис: мне нравится, что сотовые операторы становятся "кошельками". Сейчас, чтобы воспользоваться, например, Skype, я должен заплатить в два места: ШПД-оператору и Skype. Для того чтобы скачать книгу – оператору связи и владельцу сайта, где книга "лежит", и т.д.
Оператор "последней мили" знает своего абонента и в какой-то степени является держателем "кошелька" пользователя. Поэтому монетизация должна идти по принципу "сделай так, чтобы абоненту было удобно платить". Соответственно, если я со счета своего ШПД-оператора смогу оплатить Skype, покупку книжки, любую услугу, которую я потребляю через Интернет, значит, я больше буду платить "трубе", которая получит с этого комиссию.
Алексей Крайнов:
Тогда логичны следующие размышления абонента: зачем я должен хранить у оператора средства на расходы, когда я через Интернет могу оплачивать услуги с банковской карты? Это беспроцентный сервис.
Кирилл Аношин:
Тут все просто. Если абонент имеет у оператора лицевой счет, то явно на нем есть средства. А вот наличие банковской карты – условие необязательное. Тем более, если мы говорим про весь рынок ШПД, а не только про города-миллионники. Да и страшилки по воровству средств с пластиковых карт в Интернете появляются в прессе с достаточной регулярностью.
СТАНДАРТ: Нужно ли операторам ШПД самостоятельно заниматься контентом? Его производством например?
Павел Минаев:
Мы развиваем медийное направление, но сразу оговорюсь: для нас медийное направление – это не продакшн, а средство коммуникации с абонентом. На медийном рынке и так достаточно компаний, которые занимаются производством контента, в том числе для продажи в сетях операторов. Если в ШПД есть средство общения – обратный канал, то в массовом телевещании, которое пока еще не перешло на IP, обратной связи со зрителем нет.
Мы уже сравнивали деятельность оператора с "трубой", на выходе из которой находится абонент со своими потребительскими свойствами и желаниями. Они крайне важны для оператора, и он на них ориентируется. Но если в ШПД есть возможность получить информацию от интернет-комньюнити, то в ТВ невозможно пока ничего придумать, кроме как иметь собственный канал, не считая, конечно, маркетинговых акций.
Поэтому еще раз подчеркну: медийная часть нашего бизнеса – это не продакшн, в полном смысле этого слова, а инструментарий оператора, благодаря которому мы доносим информацию до абонента и получаем отклик.
Алексей Крайнов:
Решение запустить IPTV позволило нам избежать создания подобных структур, так как в природе самого продукта заложена обратная связь с абонентом, которая может использоваться вплоть до адаптации контента под потребителя.
Павел Минаев:
Во многих городах регионов пользователь даже не знает, что такое IPTV.
Дмитрий Багдасарян:
Каждый оператор развивается по-своему. Создание собственного канала – скорее, маркетинговый вопрос, нежели привязка к технологии, выбор которой для предоставления телевизионных сервисов зависит от того, с каких позиций стартовала компания. Если компания вырастает из провайдера широкополосного доступа в Интернет в оператора ТВ-услуг, она, как правило, развивает IPTV. У этой технологии есть свои плюсы и минусы: пользователи пока не готовы платить серьезные деньги за телевидение, и ARPUсервиса фактически на уровне аналогового ТВ. Кроме того, запуск технологии достаточно дорого обходится оператору, а приставки для абонентов существенно дороже, чем для цифрового кабельного телевидения (DVBC). Ситуация будет меняться – все двигается в сторону IP. Произойдет это и с телевидением.
Если вернуться к вопросу создания контента, хочу напомнить, что в структуре бизнеса АФК "Система" (куда входит "Комстар-Регионы") есть компания, которая профессионально занимается производством и дистрибуцией контента (ОАО "Система Масс-медиа", – прим. "Стандарта"), а в некоторых регионах у нас работают студии, которые производят новости для жителей региона, детские программы и прочее. Вопрос в том, насколько эффективно присутствие производителя и агрегатора контента в структуре оператора? Я уверен, что все зависит от конкретной ситуации. Если есть в компании креативные ресурсы и возможность заниматься этим бизнесом – нужно это делать. Если ресурсов нет, то вряд ли проект будет хорошо развиваться. Если кейс компании разработан для работы на открытом рынке и не дотируется оператором – он вполне может быть успешным.
Максим Раевский:
У "Центрального телеграфа" есть промоканал, который специально создан для продвижения услуг. Контент для него создают внешние компании по заказу нашего маркетингового подразделения. Мы считаем этот промоканал эффективным: по "смотрибельности" он занимает 9-е место из 137.
Кирилл Аношин:
Иметь промоканал хорошо было бы каждому федеральному игроку. Тем более, если бы он был интересным и широкоформатным с точки зрения контента и наши соотечественники имели возможность смотреть его, например, за рубежом. Узнаваемость торговой марки выросла бы в разы.
Дмитрий Багдасарян:
Я считаю, что каждый должен заниматься делом, которое может делать хорошо. Оператор связи обязан предоставлять качественные сервисы и пакетировать услуги. Создание контента – это совсем иные процессы, и люди, работающие в этом бизнесе, имеют другое мышление.
Павел Минаев:
В структуре нашей группы компаний есть эти "совсем другие" команды, перед которыми мы ставим конкретные задачи. Творческий процесс мы направляем в нужное для целей общения с абонентами русло, поэтому наши медиаподразделения не будут снимать сериалы или фильмы. Важно заранее понимать, какие цели оператор ставит перед студией. Эти цели варьируются в зависимости от ситуации в регионе.

.jpg)